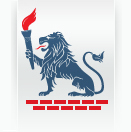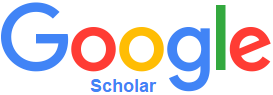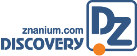from 01.01.2020 to 01.01.2022
Belgorod, Russian Federation
This article examines the architectural aspect of the creation and use of cave spaces of the Pridnestrovie and Prioskolye. The use of caves as places of worship intended for conducting rites of worship is considered on the examples of cave monasteries of the Voronezh and Belgorod regions formed in Cretaceous deposits on this territory. The relevance of this topic is due to the threat of loss of cave monuments of the XIII-XIX centuries under the influence of temporary, natural and anthropogenic factors. The main tasks are to identify the symbolic meaning of the creation and existence of cave mansions, to identify the techniques of morphological description and phenomenology of the formation of cave architecture in this region. The research methodology is based on the principles of phenomenological research, its basis is the materials of expert assessments of the preservation of underground monastery complexes, full-scale examination, dimensional drawings, drawings, photographic fixation of individual objects. The article examines the process of cave digging from the point of view of symbolism; the principles of the ascetic worldview on which the architectural features of the shape of underground spaces are based are revealed; the means and methods of morphological description of the inner space of caves are studied, their examples are given; the fragmentary perception of cave spaces by man, the spatial structure of the cave monastery, the moment of its formation are described. The symbolism, morphology and phenomenology of the cave monasteries of Pridnestrovie and Prioskolye allow us to systematize the concepts of their architectural forms. The level of symbolic elaboration of the spatial structure is a measure of articulation, showing the number of elements that have a symbolic meaning. Morphology is presented as the norm for constructing a graphical model of cave space. Without considering the symbolic and morphological characteristics, it is impossible to talk about the phenomenology of the formation of cult cave structures, which is based on the relationship of space and mass as primary units of architectural form. The priority in the approach to restoration and adaptation to modern living conditions should be focused primarily on the preservation of authenticity. Changing the image of caves carries irreparable losses of symbolic, morphological and phenomenological characteristics of their architectural forms, and consequently of their historical and cultural value.
cave digging, symbolism, morphology, phenomenology, cave monasteries, architecture, underground space, shaping
Введение. Пещерные храмы и монастыри Придонья и Приосколья в современном мире являются объектами историко-культурного наследия, так как пещерокопательство уже не практикуется. В связи с этим открыт вопрос о сохранении этих памятников, угроза утраты которых растет под влиянием процессов временного, природного и антропогенного характера на территориях их расположения. Пещерные монастыри можно рассматривать как символы стойкости православной веры, ведь в меловых стенах увековечены сила, труд, смирение и желание воссоединения души человека с Богом как суть аскетического мировоззрения. На сегодняшний день растет количество туристов и паломников желающих посетить сакральные пещерные обители, предназначенные для уединения и проведения тайных обрядов богослужения, что также имеет определенное влияние на их сохранность. Необходим правильный подход к разработке стратегии адаптации таких уникальных объектов к современным условиям жизни, который может быть получен путем исследования особенностей их символики, морфологии и феноменологии.
Изначально историю пещерных обителей описывали их настоятели. Первые публикации о пещерах Придонья делает Самуэль Готлиб Гмелин, в трудах 1769 года опубликован обзор Дивногорских пещер. Сам процесс пещеростроительства одним из первых описал А. Хреновский. Описанием археологических исследований в дореволюционный период занимались Никольский П.В., Введенский С. Н., Олейников Т. М., Савелов Л. М., Гайдуков Н. Е., Вейнберг Л. Б., Спицын А. А., Правдин А. М., Гусев Н. Краевед Струков Д. М. сделал альбом натурных зарисовок пещерных памятников Дона и Оскола. Феноменологию пещерных монастырей раскрывали в своих трудах Кременецкий А., Самбикин Д. И., Набивач И. В., Никонов Ф., Васильев П. Пространственные характеристики пещерных пространств приводит А. Г. Габричевский [1], при этом часто цитируя труды Гегеля формулировавшего феномен пещерного зодчества как «отрицательное зодчество», «негативную архитектуру». Архитектурные особенности В 90-х гг. XX в. описывают В. И. Пулужников [2] и А.О. Амелькин [3]. В начале XXI века датировку возникновения и периодизацию формирования и развития пещерных комплексов Придонья рассматривают историки В. В. Степкин [4], И. А. Агапов [5], Ю. В. Полева [6], А. П. Гунько [7], Ю. А. Долотов [7], С. К. Кондратьева [7]. В трудах Юрия Юрьевича Шевченко в начале XXI века рассмотрены типы христианских подземных сооружений этого региона [8].
Задачи исследования:
- Проанализировать способы пещерокопательства, выявить суть формообразования пещерного пространства.
- Установить позицию аскетической идеологии, давшей мотив основания для создания пещерных обителей в Придонье и Приосколье. На ее основе выявить символическое значение архитектурных особенностей пещерного пространства и его деталей.
- Рассмотреть возможности и приемы морфологического описания пещерных монастырей, определяющие архитектурные особенности их внутреннего пространства.
- На основе рассмотрения феноменологии пещерных монастырей Придонья и Приосколья выявить суть формообразования пещерного зодчества.
Объект исследования – пещерные монастыри культового назначения. Предмет исследования – архитектурные особенности внутреннего пространства пещерных монастырских комплексов.
Методика исследования базируется на принципах феноменологических исследований:
- описываются только исследованные пещерные монастыри, а также факты их возникновения и развития;
- мнения исследователей описываются без предпочтений, нейтрализуется, рассматривается рамках реальности;
- исследование имеет направленность на предмет принадлежности пещерных монастырей Придонья и Приосколья к архитектурным объектам.
Методы исследования базируется на комплексном анализе объектов культового пещерного зодчества, анализе исторических, краеведческих, искусствоведческих, богословских публикаций. Основой методики исследования являются материалы экспертных оценок сохранности подземных монастырских комплексов, натурное обследование, обмерные чертежи, рисунки, фотофиксация отдельных объектов.
Основная часть. Понятие, которым можно охарактеризовать возникновение пещерного храма, изошедшее от людей, черпающих знания и навыки созидания, изучая устройство мира и природы - «архитектура без архитектора». Современным специалистам многому стоит поучиться у архитектуры до того времени, как она стала деятельностью узконаправленных специалистов. Вместо того, чтобы сражаться с природой, безымянные строители прошлого принимали её капризы и особенности локации и адаптировали под них свои сооружения, реализуя в объектах строительства свои религиозные идеи. Многие решения, считавшиеся примитивными, на самом деле предвосхищали наши громоздкие технологии. Создание пещерного монастыря пошло естественным путем - не обуздало природу, а вошло с ней в синтез. Человек оставил стихии главенствующую роль, приспособился к формам естественного происхождения. Вошел в них, при этом, не привнося изменения среды, а лишь создав в ней для себя зону жизнедеятельности.
В основание аскетики и православной антропологической традиции легли нравственно-аскетические наставления и идеи праведной христианской жизни Антония Великого, местом отшельничества которого стала Святя Гора Афон. Подобно Антонию Великому, монахи оставляли земную жизнь, уходили под землю и, условно обрекая себя на символическую смерть, умерщвляли свою плоть и заживо хоронили себя от внешнего мира в ими же вырытых «могилах» – кельях. Ушедших из жизни монахов затворников часто хоронили в тех же кельях, где они и провели последние свои дни. Бывали случаи, когда отшельники, чувствуя приближение смерти, сами замуровывали вход в свою келью и оставались в ней на вечно [9]. Поэтому сегодня многие пещерные монастыри и кельи несут функцию и подземных некрополей. С пещеры, самостоятельно выкопанной или обнаруженной и обжитой подвижником, к которому затем присоединялись другие люди, ищущие молитвенного уединения, зарождались многие русские монастыри.
Подавляющее большинство культовых пещер среднеевропейской части России расположено к лесостепном Подонье. Распространению пещерокопательства в Придонье и Приосколье способствовал фактор фронтированности территорий, которые стали зоной культурного соприкосновения и взаимодействия русской и украинской традиции [8]. Именно на стыке двух культур народ проявил свою волю и привнес в православную культуру новое направление –пещерокопание. В России данные территории, включая Поволжье, имеют самое большое его распространение. С начала XVII века православные отшельники и монахи создавали здесь подземные обители, а также занимали, расширяли старые уже вырытые, датировка их происхождения предположительно приниматься не позднее VIII в. Не смотря на небольшие территории количество паломников отсюда на Гору Афон с 1801 по 2012 г. не уступало Москве [10]. Кто-то из крестьян Среднерусского Белогорья уходил для пострига на Гору Афон, а кто-то в рамках народного православия создавал сакральные локусы на Белых Горах родной земли. При этом между собой они поддерживали тесные духовные связи, не приветствуемые, как показывают архивные документы, официальными властями.
Возникновение пещерных монастырей не связано с деятельностью специалистов сфер архитектуры и строительства, никогда не создавался «проект пещер», не разрабатывались конструктивные и технические решения. Создатели были простыми людьми, мотивированными религиозной верой и вместо теоретических знаний могли пользоваться лишь творческой интуицией и внутренним опытом. Чтобы описать феномен появления пещер «достаточно было бы изучить архитектуру любого византийского храма или же технику каменной кладки, чтобы уловить то уважение к внутренней жизни материала, которое испытывает строитель, избегающий какого бы то ни было насилия над камнем, каких бы то ни было попыток подчинить материал произволу собственных замыслов.» [11] Процесс пещерокопания был основан на особом диалоге мастера и природного материала, при этом мастер , отказавшись от тщеславия, проявив самоотречение, позволил самому материалу выразить свою суть, что невозможно было бы осуществить используя современную строительную технику. В данном случае основу положила взаимосвязь архитектуры и природы, которая исторически обусловлена и развивается вместе с обществом.
Процесс пещерокопания был при этом построен следующим образом:
- обычно пещеру начинал строить один человек, затем к нему присоединялись единомышленники, отмечены даже случаи найма рабочих;
- работы велись при слабом свете свечей и ламп, из-за дезориентации во времени рабочий процесс часто продолжался и даже усиливался в ночное время, тогда же к строителям присоединялся окрестный народ, закончивший свои дневные хлопоты;
- основная часть рабочих трудились в полном молчании, при этом слушая чтение акафистов и канонов своими товарищами;
- распределение рабочих было организованно поочередно один за другим, всего участвовало 30 человек;
- одни трудятся заступом, другие в решетах и корзинах передают набранную землю следующим и т. д., пока не достигнут выходной двери.
Отделка могла включать выравнивание, шлифовку и иногда орнаментацию стен. Иногда использовалась краска и штукатурка.
Разработка сохранялась без обвалов длительное врем, поскольку это позволяла плотность и увлажненность меловой породы, а точнее мергеля, который при увлажнении частично кристаллизуется и становится крепким. Пещерные лабиринты часто прокладывались вдоль естественных тектонических трещин. Иногда для укрепления использовались дерево или кирпич. Кирпич применялся для закладки крупных трещин и полостей в породе, также укреплялись своды. При строительстве использовался обожженный красный и меловой (выпиленный из мела) кирпич. Судя по следам и углублениям в стенах, дерево применяли для устройства дверных проемов, полок и лежанок, которые, как и все органические детали, не сохранились [7].
Символика архитектурных форм пещерных монастырей. В пещерном отшельничестве внимание акцентируется духовном развитии и его этапах. Духовная эволюция достигается постоянной внутренней борьбой со своими грехами и пороками. Таким образом, в основу русской православно-аскетической традиции легли законы христианской этики, нравственности и система общественных отношений, основанная благочестными древневосточными подвижниками, расширявшими границы своей веры. Суть христианского подвижничества кроется в усердном стремлении единения души с Богом, в совершенствовании духовно-нравственных качеств, которое осуществляется через добродетель [12]. Главный принцип христианского аскетизма заключается в синергизме, т.е. сотрудничестве и согласованности двух воль: Божественной и человеческой. Спасение и исцеление человеческого естества возможно только снисхождением Божественной благодати. Исключительно через нее человеческие душевные и телесные подвиги обретают истинный смысл. Все монашеские подвиги – пост, труд, бдение, уединение, удаление от мира, хранение чувств, чтение Священного Писания и др. сами по себе являются лишь упражнениями, если через них не пройдет Божественная благодать. Совокупность подвигов определяется как трудничество. В основе христианской аскетики лежат обеты послушания, нестяжания (независимости человека от привязанности к материальным благам) и целомудрия. Аскетика всегда имеет своей целью восстановить единство духа человеческого с духом Божьей благодати и гармонизовать внешнюю и внутреннюю жизнь человека, христианина.
"Затвори двери твоей кельи, сядь в углу и отвлеки мысль твою от всего земного, телесного и скоропреходящего. Потом склони подбородок на грудь свою и устреми чувственное и душевное око на пупок свой: далее сожми обе ноздри свои так, чтобы едва можно было дышать, и отыщи глазами приблизительно то место сердца, где сосредоточены все способности души. Сначала ты ничего не увидишь сквозь тело твое; но когда проведешь в таком положении день и ночь, тогда, о чудо, увидишь то, чего никогда не видал, увидишь весьма ясно, что вокруг сердца твоего распространяется божественный свет" - Прохоров Г. М. [13].
Основой аскетической деятельности является внутренняя духовная сторона жизни, общественная деятельность основывается на внешних проявлениях. Для аскетов важна душа, для общественников - тело. Если главную роль в общественной деятельности играет материальная ценность, то цель аскетики – нравственное становление человека. Возникает вопрос о том какая из этих ценностей важнее, ведь такой выбор часто остро встает перед людьми. В православии ответ определен в пользу конечно же духовности, материальная сторона жизни несет подчиненную роль. Если бы отрицать аскетизм за возделывание им духовной стороны жизни человечества, то такому же суду тогда следовало бы предать и философию. Ведь и она больше всего занимается истолкованием высших основ и целей бытия.
Назначением храма как архитектурного объекта является проведение в нем собрания христиан, совершения общих богослужений и религиозных обрядов. Храм своим внешним видом должен олицетворять величие Бога и красоту Царствия Небесного. Русское храмовое зодчество характеризуется работой по эталону, которыми служат образцовые сооружения, принятые Церковью как канонический идеал, соответствующие догматическим правилам церковного учения. Архитектурные формы храмостроительства являются символами определенной мифологической интерпретации. Например, купол храма символизирует небо, алтарь - святая святых, атриум является символом отцовской власти, цвет – почитание определенных святых [14] и т.п. Композиция храма и его художественный образ отражает символический смысл его существования, который основан на православной догматике. По таким принципам сложен архитектурный замысел православного монастыря. Монастырь представляет собой замкнутое композиционно завершенное небольшое пространство, образовавшее культурно-религиозный духовный центр общественного использования на местной территории.
Храмы всегда были украшены самыми прекрасными и совершенными произведениями искусства, соответствующими своей исторической эпохе. Из слов священного писания, христианский храм представляет миру образ Царствия Небесного, которое ожидает нас в предстоящей вечной жизни, существуя с начала времен [15]. Этот образ передается через символический смысл архитектурной формы храма, через его композицию и пропорции, которые подчеркиваются богатым убранством и искусством. Так же храм служит новообращенным христианам училищем духовной мудрости, выражающейся через образы архитектуры, скульптуры, иконописи, церковного пения и т.п.
Общественные проповеди даже сам Христос проводил в ветхозаветном иерусалимском храме, но для личной молитвы ониудалялся в уединенные места, в том числе и используя для этого пещеры. В христианском учении говорится, что сам человек является в определенном смысле храмом Божиим, а украшением его служит добродетель. Благолепие, материализовавшееся через виды церковного искусства, представляет собой Божие величие и красоту Его Царства [15]. Конечно же внешняя красота и великолепие соответствуют положенному статусу и величию храма, но гораздо более глубокое – «истинное» чувство благодатного воздействия мы ощущаем от храмов, облик которых построен на благородной простоте гармонично построенных пропорций архитектурных форм с использованием неброского спокойного декора. В пример можно привести Владимирский храм «Покрова на Нерли», Новгородский храм «Спаса преображения на Нередице», «Успения на городке» в г. Звенигороде.
Пещерный монастырь, его основные архитектурно-композиционные приемы и организация монастырского строительства в целом соответствуют каноническим требованиям Русской Православной Церкви, традициям русского иночества и религиозно-догматическим канонам [16]. Но следуя идеям и мотивации создания, пещерный монастырь уже не есть «рукотворный мир», он своим устройством, в целом, символизирует образ царства небесного - Храма Божьего, что позволяет допускать исключения в применение православных канонических традиций в устройстве пещерного храма. Общая идея - объединяет все части подземного сооружения в одно символическое целое. Например, есть исключения в устройстве кругового коридора вокруг пещерного храма для проведения «Крестного хода» в праздничные дни; в делении пространства храма на алтарь, сам храм и притвор; в форме помещения и свода, ориентации входа четко на восток и т. д. Соответственно, архитектурный образ пещерного храма отличается от храма наземного. Символика роскошной отделки, деталей, структурного разделения на части, цвета в пещерном культовом зодчестве заменяется на сравнение пещерного монастыря с неразделимым и истинным царствием Божьим, которое не нуждается в украшении своей природной формы.
Непосредственное символическое значение архитектурных форм пещерных храмов и монастырей обусловлено принципами аскетической идеологии, давшей мотив для их создания:
- скромность, простота внешнего облика;
- отказ от материальных благ;
- уединение, удаление от мира, замкнутость;
- символизм;
- функциональность.
Изначальная функция пещерного храма создавать условия для уединения, проведения сакральных церемоний и обрядов. Скромные размеры, аморфные формы и отсутствие декора характеризуют пещерный монастырь как место христоподражательского подвига, аскетического подземного жилья и особой формой погребения. Пещеры являются местом проведения уединенной молитвы и сакральных церемоний и обрядов. В психологии восприятия архитектурной формы и внутреннего пространства пещерного монастыря передается особый сакральный смысл внутреннего мира человека и его единения с Богом.
Морфологические особенности. Под морфологическим описанием архитектурной формы пещерного монастыря подразумевается такой вид описания, который фиксирует конфигурацию и параметры внутреннего пространства пещер и их архитектурных деталей. Рисунки и чертежи, фиксирующие планы, сечения полостей, размеры и пропорции, которыми обладает подземное пространство являются средствами их морфологического описания. Характерными примерами морфологического описания пещерных монастырей являются обмерные чертежи, рисунки планов, чертежи сечений ходов-галерей, топографические планы территории расположения, фотографии пещерных пространств и их деталей. Установление последовательности и характера распределения пространственных частей и архитектурных масс, а также времени их восприятия, будит выделяться как особый тип морфологических описаний пещерных монастырей [17].
В соответствии с морфологическим описанием могут быть сформированы морфологические модели пространственно-планировочной структуры пещерных монастырей. Они представляют собой аксонометрический либо перспективный чертеж, на котором обозначена планировка, форма сечений структурных элементов, а также их положение в пространстве (угол уклона по отношению к горизонтальной плоскости). Примером таких морфологических моделей является аксонометрическая схема пещерного монастыря в с. Холки Белгородской области, В 1985 г. в статье В.И. Плужникова, посвященной пещерам на территориях монастырей на Дону и Осколе [2]. Схема дополнена рисунком, изображающим внутреннее пространство пещерного храма (рис.1).
 б)
б)
Рис. 1. а) - аксонометрическая схема пещерного монастыря в селе Холки и б) - рисунок пещерного Храма (Плужников, 1985)
Данная схема была составлена по архитектурным описаниям элементов пещерного комплекса, рисункам и замера, и не имеет высокой степени точности. В статье А.А. Гунько, С.К. Кондратьева, А.П. Гунько «Пещеры у села Холки» [7] представлены схемы планов Холковских пещер, с указанием масштабной линейки и ориентации по сторонам света (рис.2). Алтарь пещерного храма ориентирован на восток, что соответствует каноническим требованиям храмостроительства. Если учесть трудность ориентации под землей и отсутствие в те времена специальных приборов для измерения сторон света, точность определения правильного направления сложно объяснить.

Рис. 2. Схема плана пещерного монастыря в с. Холки Белгородской области (А.А. Гунько, С.К. Кондратьева, А.П. Гунько, 2014)
Также существуют схемы планов пещер, расположенных на территориях Успенского Дивногорского монастыря, Шатрищегорского Спасо-Преображенского монастыря, Костомаровского Спасского монастыря, Воскресе́нского Белого́рского монасты́ря, Успенскго Николаевского монастыря и др. монастырей Белгородской, Воронежской, Курской и Липецкой областей. Использовать такие схемы можно для фиксации исторического облика пещерного монастыря как памятника архитектуры в связи с тем, что на сегодняшний день существует угроза разрушения некоторых из них. Многие пещеры еще не исследованы находятся в неудовлетворительном состоянии и без вмешательства со временем могут быть утрачены что принесет большой ущерб культурному наследию России [18]. Для начала восстановительных и реставрационных работ морфологические описания нужны при расчете пространственных свойств объекта: его расположения, размеров его частей и деталей. В научных целях морфология представляет интерес для определения типов пещер и их классификации. Но нельзя анализировать морфологические свойства архитектурных форм пещерных монастырей, если не понимать их символического смысла и феминологии восприятия человеком.
Феноменология пещерного зодчества Придонья и Приосколья. Архитектурные объекты могут служить нескольким целям, в том числе и тем духовным и культурным целям самосознания человека, которым никогда не служили механизмы и орудия труда. Архитектурные формы пещерных монастырей не были спроектированы, но отвечали определенным историческим условиям и потребностям. Решить функциональные, планировочные, конструктивные и художественные задачи создателям пещерных пространств позволило проектное и образное мышление, на формирование которого повлияли история, критика и эстетика архитектуры наземного храмового зодчества. Феноменология пещерного зодчества описывает восприятие подземных пространств человеком, их влияние на физическое и психоэмоциональное его состояние.
Если рассматривать понятие «Архитектура» в самом широком смысле как зодчество в целом, можно определить ее как «вид человеческого творчества, изолирующий часть пространства, ценную для духовной и материальной жизни и деятельности человеческого индивидуума или коллектива, либо при помощи удаления соответствующего количества материальной массы, уже данной в природе, либо при помощи сооружения трехмерной материальной оболочки, отграничивающей изолируемый пространственный объем и воздвигаемой на участке земной поверхности, соответствующем этому объему» - Габричевский А. Г. [1]. Из определения следует, что пространство и масса главные элементы архитектуры. Задачей же архитектурного формообразования является закономерно объединить. Взаимоотношения между этими элементами определит своеобразие пещерных монастырей как индивидуального архитектурного организма или архитектурных образований в зависимости от степени проявления художественной воли при их формировании. Эстетические категории пространственная динамика и пластика формы (массы) имеют стихийный характер и являются первоосновой художественного формообразования [19]. К выявлению архитектурных особенностей культовых пещер нас приведет раскрытие их пространственных и пластических характеристик.
Формы пещерных монастырей, на первый взгляд не имеющих отношение к архитектуре, настолько тесно генетически связанны с ней, что могут быть рассматриваемы как ее первоисточники, с преобладанием именно пространственных качеств. Пещерное зодчество - это создание пространственных единиц путем выдалбливания их из природных аморфных масс, по определению Гегеля является «отрицательным зодчеством», «негативной архитектурой» [1]. Этот тип архитектуры, исходя из феноменологического состава архитектурной данности, может быть рассмотрен как исток зарождения зодчества в направлении первобытной архитектуры.
В пределах творчества человека, в противопоставлении окружающей природе, есть грань между приспособительным и духовным формообразованием. Создание культовых пещер можно отнести к творчеству религиозному, метафизическому и художественному, имеющему духовную цель. Подобно массе, подземное пространство является основной категорией всякого живого органического творчества, как приспособительного, так и духовного [19]. В ряде случаев естественные полости в земной коре приспосабливались для проведения в них религиозных обрядов, захоронений, бытования монахов. Пещеры в меловых горах в устьях рек Дон и Оскол были выдолблены человеком и изначально имели духовные цели своего существования. Пещерные объекты можно разделить на две пространственно-художественные категории: статическое пространство и динамическое пространство. Статическое – приспособительное пространство, образует нейтральную, пустую, однообразную среду, используемую человеком. Такое пространство несет подчиненную функцию отделения одного объекта то другого - оно художественно не ценно и не является художественно формообразующим началом. Динамическое пространство - художественно абсолютно ценно, является основным первичным формообразующим началом. С одной стороны пространство ограничивается (формируется) объемами, с другой – замкнутое пространство может формировать либо подчинять объем, находящийся внутри него, смотря что из них имеет большую духовную ценность, а что просто приспособлено.
В архитектурном творчестве динамика выражается в элементе внутреннего пространства, а статика — в элементе массы. Соотношение и взаимодействие этих категорий влияет на то будет ли объект художественно значим и эстетически ценен и насколько. «Вот альфа и омега, исходный пункт и конечный результат всякого художественного исследования.» - Габричевский А.Г. [1]. Внутреннее пространство пещер воспринимается фрагментарно, при движении, а значит не сразу, а в течении некоторого времени. Время, как и расстояние, обладает свойством протяженности, делится на отрезки и становится полноправной единицей измерения пространства. Архитектура пещер выражена свойствами внутреннего пространства – форма, размер, протяженность. Эти свойства формируются удалением, выкапыванием, выдалбливанием необходимого пространственного объема в сплошной материальной, в основном, аморфной массе, данной в природе в виде земли, скалы и т.п., то есть преодолением противостоящей им неорганизованной матери, а значит, ее отрицанием. Первичное пещерное зодчество зависит от творческой приспособительной силы человека и от податливости материи. Пространство здесь является целью и ценностью, масса лишь преодолевается, лишь отрицается. Художественными пещеры делает сам момент пластики ограничивающей поверхности. Пространство пещерного монастыря ограничено природной массой, но эта масса не сформировала его, здесь именно само внутреннее пространство сформировало объект, а значит оно является динамическим и духовно ценным [19].
Пространство и масса являются первичными и, притом, полярными моментами, определяющими строение художественного архитектурного содержания [1]. Пещеру можно воспринять как пространственное внутреннее ценное ядро, заточенное в природную массу. Здесь пространство и масса едины, при этом их можно отдельно различить. На первый взгляд, возникшая при помощи удаления тектонической породы в виде бесформенной массы (отрицания), создает чистую пространственную форму, здесь еще значима и оболочка, не смотря на художественную недооформленность и отсутствие тектонической выразительности. Негативное зодчество предполагает массивную природную, данность. "Ядро — оболочка" является первичной исходной единицей, существенной наглядной категорией особой области культурного выражения. Структуру архитектурной формы можно определить с помощью трех позиций: внутреннее и внешнее пространство, и оболочка, которая их разграничивает. Внешней оболочкой пещеры является окружающая среда, которая связана с внутренним пространственным ядром только входной группой, в случае если таковая имеется, она же и является разграничением внутреннего и внешнего пространства. Внутренние архитектурные пространственные объемы являются архитектурными формами только в меру своей ограниченности, материальной оформленности. Внутреннее пространство пещеры обладает внутренней выразительностью, поскольку оно дано как нечто созданное, выстроенное, путем изъятия массы. В этом слое архитектурного художественного предмета ставится проблема материала, его свойств и технической обработки. Данный момент сравним с процессом каменной кладки в наземной архитектуре, различных ее видов и способов строительства. Архитектурная форма пещерного зодчества - живое движение воспринимается как оставляющее за собой след или отпечаток на неорганизованной, аморфной материи, в течение определенного периода времени. Здесь архитектура, прикрепленная к определенному участку земной поверхности, имеет самостоятельное бытие и независима от физического присутствия человека, так как облекаемой ценностью является пространство, которое ему необходимо.
Структура пещерного монастыря состоит из коридоров продольной формы и центрических пространственных объемов в виде келий и храмов [6]. Пространство, окружающее движущегося человека, фиксируется продольными ходами, центрические пространственные объемы являются проекцией ядра, замкнутого в себе и недвижимого. Центрические объемы и продольные формы связываются между собой посредствам соединения сложением, то есть присоединения отдельных самостоятельных элементов пространства либо деления (расчленения) общего пространства на части, выделяющиеся общем пространственном объеме. Таким образом, выражается сплошное динамическое единство, дифференцирующееся в процессе своего поэтапного становления. Внутреннее архитектурное пространство пещерного монастыря несет в себе формообразующий момент, а его динамика является антропоморфной, данной как функция [1]. Соединение структурных элементов формирует целостный образ, более мелкое детальное членение внутренних пространств выявляет определенную функцию каждого из них. Не все части доступны зрительному восприятию, здесь предметами выявления пространства служат недоступность, иррациональность, аморфность. Индивидуализация человека, находящегося внутри такого пространства, растворяется под влиянием стихийной мощи и динамики, выраженной в пропорциях, освещении, видимой атектоничности внутренних пещерных объемов. Эта внутренняя поверхность материальной оболочки выражает направление, силу и форму движений пространственного ядра. Материя подчинилась внутренней пространственной динамике, она обрела органическую форму и просто перестала существовать. Материальная оболочка перетекла в пластические образы, которые не ограничены горизонтальными и вертикальными плоскостями, динамика оживила их изнутри.
Одной из причин отличия внешнего облика пещерного храма от наземного является отсутствие соответствия между экстерьером и внутренним видом, так как у пещерных монастырей фактически отсутствуют фасады. Архитектурно-средовые феномены пещерных пространств определяются в области тактильных свойств ограждающих поверхностей: шероховатость необработанной поверхности; ощущения прохлады и влажности при касании; сглаженность углов; неожиданные повороты, спуски и подъемы; теснота коридоров и помещений [17]. Восприятие внутреннего замкнутого пространства отличается фрагментарным обзором и зависимостью от источника света. Оценить интерьер пещер можно лишь на небольшом расстоянии от себя доступном зрению. Движение тени усиливает фактурность необработанной поверхностей меловых стен. При этом криволинейные формы коридоров усиливают ощущение преобладания природной силы. Дезориентация, создаваемая планировкой с непредвидимыми поворотами, усиливает ощущение смены реальности привычного нам мира. Асимметрия помещений и ходов, привязанных к пустотам естественного происхождения, усложняют запоминание пройденного пути и усиливают утомляемость, создавая ощущение большей протяженности по сравнению с действительной длинной пути. Пещерный монастырь открывает перед нами иной мир, который постижим далеко не каждым. И возможно, чтобы понять его необходимо пройти путь аскета обрести единение с Богом.
В пещерном пространстве нет привязки к вертикальным и горизонтальным плоскостям – нарушена привычная в наземной архитектуре система координат, выстраиваемая стенами и перекрытиями. Оси туннелей могут располагаться свободно в любом направлении. Криволинейные формы коридоров усиливают ощущение преобладания природной силы. Каменная масса зрительно движется. Ощущения необузданной природной силы подчеркивает сложная планировка пещерных комплексов, не определимая снаружи. Неожиданные повороты, подъемы и спуски, резкие разветвления криволинейных коридоров дезориентируют, принуждают забыть внешний мир и довериться внутренним ощущениям [2]. Характер самого материала, соразмерность структурных элементов и деталей, аморфность форм выражаются в наглядных свойствах архитектурных частей, отношение этих частей дано как живое взаимодействие, непрерывное движение, образующее целостный образ всего монастыря. Огромную роль здесь играет именно входная группа, так как связывает внешнюю среду с подземной частью, являясь лицом пещер, своеобразным порталом между двумя мирами. И конечно же именно эта деталь дает основание для восприятия пещерного монастыря как архитектурного объекта. Входная группа является важным критерием при проведении оценки архитектурной ценности пещерного памятника [20]. Форма и размер входной части служат наиболее яркими средствами выражения основных функций архитектурной оболочки, связывающих пространственное ядро с динамикой внешнего мира. Через архитектуру пещер сама природа участвует в культурном выражении.
Вывод. Морфологическая основа исследования архитектурных особенностей пещерных монастырей поставляется археологией, а символический смысл идеологией, культурой, историей. Архитектура пещер связывает между собой социально-культурные ценности и форму, что несет их символическое выражение, она принадлежит месту, ландшафту и истории, а не определенному автору. Ценность формы пещерного монастыря, с точки зрения ее научного объяснения, опирается на социально-культурные позиции, основанные на принципах аскетической идеологии, такие как отказ от роскоши, простота внешнего облика, уединение, удаление от мира, замкнутость. С преобразованием пещеры в пещерный монастырский комплекс, приспособительная функция заменяется конструктивным расчетом и художественно осознанной выразительной мыслью.
Такие свойства архитектуры пещерных монастырей Придонья и Приосколья как символика, морфология и феноменология, позволяют систематизировать концепции их архитектурных форм. Уровень символической проработки всех частей подземного пространства пещерного монастыря можно назвать мерой его артикулированности, которая показывает наличие и количество элементов, имеющих символический смысл. Морфология дается как норма построения графической модели пещерного пространства, при построении которой можно оперировать обобщенными представлениями, типологиями и классификациями. Без рассмотрения данных свойств нельзя приступать к изучению феноменологии культовых пещерных сооружений.
Пространство пещер не передает художественную суть, но является формообразующем началом, подчиняющим себе оболочку (массу). Человеческому сознанию свойственна двойственность мировосприятия: есть духовная и материальная сторона жизни. Это и есть типы двух основных мирочувствий, которые А. Г. Габричевский называет пластическим и динамическим [19]. Если перенести двойственность сознания между духом и материей в религиозный аспект, то можно отметить аналогичное противостояние между началом духовным и материальным, причем последнее в пещерном зодчестве не является приоритетом, здесь живая архитектурная форма снимает разграничение между духом и материей.
Стоит подчеркнуть, что подход к восстановлению пещерных памятников архитектуры не требует точности обмеров аморфных форм, т.к. пещеры созданы не по чертежам, а интуитивно, опытным путем. Современные работы по восстановлению и развитию пещер могут проводятся также не по проекту, а непосредственно на месте. Но возникает вопрос об уместности новых расписных икон, резных узоров и лепнин в пещерных храмах, которые появляются стараниями местных энтузиастов. Ведь на сегодняшний день пещерного монашества как отдельной сферы деятельности не существует. Нет и монахов отшельников, скрывающихся от гонений. Остались только памятники истории и архитектуры, которые необходимо прежде всего сохранять, а не приукрасить, и именно в подлинном виде показывать очевидцам и потомкам, чтобы не нарушать связь с мотивами и смыслом возникновения. Прежде чем вносить свою лепту в судьбу пещерного памятника необходимо учесть все возможные последствия, влияющие на сохранение памятника и его историко-архитектурной ценности. Меняя образ аскетичного уединенного места, теряется символический смысл существования пещерной обители, изменяются морфологические характеристики и феноменология формы внутреннего пространства. Памятник теряет аутентичность, а следовательно, и ценность с точки зрения истории и культуры. Адаптация к современным условиям жизни не должна лишать объект этих качеств. Приоритет в подходе к восстановлению должен быть ориентирован прежде всего на сохранение исторического образа и формы. Пещерные храмы и монастыри, сохранившиеся до наших дней, несут в себе традиции русского православного храмостроительства, сохраняя суть и канон обрядов богослужения. Аскетичным сакральным местам не подходят богатые убранства и украшения. Любой новодел в пещерах может нести необратимые последствия как с этической, эстетической, стилевой точки зрения, так и с технической и экологической стороны.
1. Gabrichevsky A.G. Space and mass in architecture [Prostranstvo i massa v arhitekture]. Russian Academy of Sciences. arts. sciences. Moscow: B. I., 1923. 18 p. (rus)
2. Pluzhnikov V.I. Cave monasteries on the Don and Oskol [Peshchernye monastyri na Donu i Oskole]. Monuments of Russian architecture and monumental art. Cities, ensembles, architects. M., Nauka, 1985. 242 p. (rus)
3. 3. Amelkin A.O. The oldest monastery in the Voronezh region [Drevnejshij monastyr' Voronezhskogo kraya]. The works of teachers and graduates of the Voronezh Orthodox Theological Seminary. 2012. No. 6. Pp. 387–404. (rus)
4. Stepkin V.V. Cave monuments of the Middle Don region [Peshchernye pamyatniki Srednedonskogo regiona]. Cult caves of the Middle Don. M.: ROSI, 2004. Issue 4. Pp. 41–137. (Ser. Spelestological studies). (rus)
5. Agapov I.A. A brief overview of the emergence and development of cult cave monuments of the Middle Don region [Kratkij obzor vozniknoveniya i razvitiya kul'tovyhpeshchernyh pamyatnikov Srednego Pridon'ya]. Cult caves of the Middle Don. Issue 4. M., 2004. Pp. 198–210. (rus)
6. Poleva Yu.V. Cave asceticism on the territory of the Lower Volga region and the Don region in the second half of the XVII-early XX centuries [Peshchernoe podvizhnichestvo na territorii Nizhnego Povolzh'ya i Podon'ya vo vtoroj polovine XVII-nachale XX vv.]: abstract. on the job. learned. step. Candidate of Historical Sciences: specialty 07.00.02 Poleva Yulia Vladimirovna; Volgogr. state University. - Volgograd, 2009. 33 p. (rus)
7. Gunko A.A., Kondratieva S.K., Gunko A.P. Caves near the village of Withers [Peshchery u sela Holki]. Speleology and spelestology: collection of mat. V International Scientific part-time conf. Naberezhnye Chelny: NISPTR, 2014. Pp. 192–201. (rus)
8. Shevchenko Yu.Yu. Cave Christian monasteries of the Don region: The beginning of tradition [Peshchernye hristianskie monastyri Podon'ya: Nachalo tradicii]. Pictorial monuments: Style, epoch, composition. Materials of the thematic scientific conference. St. Petersburg, December 1-4, 2004. St. Petersburg, 2004. Pp. 196–201. (rus)
9. Lidov A.M. Hierotopia. The creation of sacred spaces as a type of creativity and the subject of historical research [Ierotopiya. Sozdanie sakral'nyh prostranstv kak vid tvorchestva i predmet istoricheskogo issledovaniya]. Hierotopia. The creation of sacred spaces in Byzantium and Ancient Russia: a collection of materials of the International Symposium. Editor-compiler A.M. Lidov. Moscow: Indrik, 2006. Pp. 9–31. (rus)
10. Stepkin V.V. Athos and the Don region at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries: contacts in the context of the revival of the Shatrishchegorsk cave monastery [Afon i Podon'e v konce XIX nachale XX vv.: kontakty v kontekste vozrozhdeniya Shatrishchegorskogo peshchernogo monastyrya]. Bulletin of the Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University. Series II: History. History of the Russian Orthodox Church. Vol. 75, 2017. Pp. 39–54.
11. (Christ Yannaras). Christ Yannaras. The Faith of the Church (An Introduction to Orthodox Theology) [Vera Cerkvi (Vvedenie v pravoslavnoe bogoslovie)]. M; 1992. 92 p. (rus)
12. Klimkov O.S. Hesychia and philosophy in the doctrine of Gregory Palamas [Isihiya i filosofiya v doktrine Grigoriya Palamy]. Philosophical Thought, 2017-5 Pp. 14–30. DOI:https://doi.org/10.7256/2409-8728.2017.5.22444 (rus)
13. Prokhorov G.M. Hesychasm [Isihazm]. The Great Russian Encyclopedia: scientific and educational portal. URL: https://bigenc.ru/c/isikhazm-5a6eff /?v=9572458. Date of publication: 30.05.2023. Date of update: 29.01.2024. (rus)
14. Vovzhenyak P. Yu., Yarmosh T. S. Interpretation as a research method in architectural design [Interpretaciya kak metod issledovaniya v arhitekturnom proektirovanii]. Bulletin of BSTU named after V.G. Shukhov. 2024. No. 8. Pp. 66–75. DOIhttps://doi.org/10.34031/2071-7318-2024-9-8-66-75 (rus)
15. Petrov-Spiridonov N.A. Semantics of “created” and “uncreated” light in Russian church architecture [Semantika «tvarnogo» i «netvarnogo» sveta v russkom cerkovnom zodchestve]. Moscow Architectural Institute (State Academy), Moscow, Russia 2021. No. 3 (56). DOI:https://doi.org/10.24412/1998-4839-2021-3-195-213(rus)
16. Vovzhenyak P.Yu. Methods of conducting research on cave monasteries in order to preserve them [Metody provedeniya issledovanij peshchernyh monastyrej v celyah ih sohraneniya]. Technical aesthetics and design research. 2022. Vol. 4. No. 4. Pp. 49–58. (rus)
17. Rappaport A.G. Towards understanding architectural form [K ponimaniyu arhitekturnoj formy]. Dissertation for the degree of Doctor of Art History, presented in the form of a scientific report. Moscow 2000. 140 p. (rus)
18. Pluzhnikov V.I. Terms of the Russian architectural heritage: Architectural dictionary [Terminy rossijskogo arhitekturnogo naslediya: Arhitekturnyj slovar']. Moscow: Iskusstvo-XXI century, 2011. 424 p. (rus)
19. Yavein O.I. On some basic provisions of the theoretical legacy of Alexander Georgievich Gabrichevsky [O nekotoryh bazovyh polozheniyah teoreticheskogo naslediya Aleksandra Georgievicha Gabrichevskogo]. AMIT. 2015. No.4 (33). pp. 5 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-bazovyh-polozheniyah-teoreticheskogo-naslediya-aleksandra-georgievicha-gabrichevskogo (date of reference: 06.10.2024). (rus)
20. Zakharova E.Y.? Kondratieva S.K.. Architectural and archaeological monuments of Divnogorie (history of study) [Arhitekturnye i arheologicheskie pamyatniki Divnogor'ya (istoriya izucheniya)]. Proceedings of the Divnogorye Museum-Reserve. Vol. 2. Voronezh: Kvart, 2011. 216 p. (rus)